Боливийские метаморфозы
Страница 3 из 4
Май 2008
Первую вылазку за пределы Ла-Паса мы с Р. сделали к руинам Тиванаку. Наш гид-водитель Карлос, рекомендованный отелем, оказался человеком чрезвычайно любознательным. Он больше расспрашивал, чем рассказывал, и, честно говоря, замучил меня и Р. вопросами. О России его интересовало все - от нынешнего отношения русских к Сталину до обменного курса рубля на боливиано. На полицейских контрольно-пропускных пунктах Карлос громогласно объявлял:
– Везу журналистов из России! Будут писать о нас книгу!

Первую остановку мы сделали в городке Лаха, который в свое время едва не стал столицей Боливии. Но потом конкистадорам попалось более подходящее место (то, где ныне находится Ла-Пас), и Лаха на долгие века погрузилась в летаргический сон, в котором пребывает до сих пор. Славится городок своими вкусными лепешками, испеченными по рецепту колониальной эпохи. И мы убедились, что по праву.
В Тиванаку мы застряли надолго.
Два десятилетия назад этот археологический комплекс был по-деревенски уютен и доступен. На его зеленых лужках мирные ламы пощипывали траву, доверчиво рассматривая редких визитеров своими выразительными глазами. Пробудил древние руины туристический бум, а также коммерческий интерес у людей, понимающих, что Тиванаку – золотое дно. Так началась «реорганизация» древнего комплекса.

Появились планы по введению в «туристический оборот» новых археологических объектов, находящихся под многометровым слоем земли. Был построен музей Тиванаку, возвращен из Ла-Паса на прежнее место «Монолит Беннетт», названный так в честь американского ученого, обнаружившего его. Находящийся рядом с комплексом городок Тиванаку буквально расцвел на туристическом бизнесе, хотя до сих пор не имеет приличного «общепита». Появились каменные дома, была вымощена площадь, построено новое здание муниципалитета, превосходящее по прочности и внушительности декора сам комплекс.

Так, в конце 40-х годов журналист Хоакин Торрес из Аргентины написал в своих путевых очерках: «Индеец в общих чертах очень миролюбив. Говорит обычно гнусаво и негромко, а когда сидит (конечно, на корточках), то взгляд его устремлен в какой-то другой мир. Индеец хранит в себе века грусти, и, если всмотреться в него, он очень часто вызывает жалость… Постоянно видишь индейских мужчин и женщин, которые, подобно ослам, тащат на своих спинах самые разнообразные грузы, нередко весьма объемистые и тяжелые. По моему мнению, видеть такие печальные сцены не слишком приятно. Впрочем, мы, возможно, должны признать, что это единственное, на что пригодны индейцы».1
Если бы Хоакин Торрес жил в наше время, он, несомненно, пересмотрел бы свою уничижительную оценку индейцев.
Археологические раскопки проводятся не только в Тиванаку, но по всему пространству альтиплано. В этом прочитывается идеологический заказ – надо постоянно доказывать, что индейцы были исконными обитателями этих мест, что их права на эти земли – неоспоримы. На этом фоне ведется наступление на «колониальное наследство», вплоть до обвинений в адрес испанского языка как «инструмента эксплуатации». «Расизмом наоборот» называют иногда трезвомыслящие боливийцы (в том числе и индейцы) подобные выпады.
В проекте новой Конституции есть статья 78, предусматривающая «перестройку образования в духе деколонизации». Пока что нет точных формулировок, что именно под этим подразумевается. Если «деколонизация» включает изучение индейских языков, истории коренных народов, андской космогонии, Пачамамы, чтобы уравнять в правах западную и индейскую культуры, то это оправдано и целесообразно. Если индейские радикалы подразумевают под этим фронтальную борьбу со всеми проявлениями западной цивилизации, то ничего хорошего из этого не выйдет. Один из боливийских публицистов прикинул возможные итоги такой борьбы и ужаснулся: не будет ни письменного языка, ни четкой математической науки, не будет многого, что необходимо просто для выживания.2
По новому проекту Конституции индейское население должно получить и свой «параллельный» семицветный «в кубиках» флаг wiphala, который существует давно, но не был узаконен. Впрочем, уже сейчас на многих административных зданиях wiphala равноправно развевается на ветру рядом с официальным – красно-желто-зеленым флагом Боливии.

— Их называют милицией Эво Моралеса. Красный цвет для индейцев особый, торжественный. Используется в свадебных церемониях и на войне. Все «пончос рохос» - люди зрелые, мудрые. Их авторитет в подчиненных им общинах неоспорим. У них есть оружие – старые чешские и немецкие винтовки эпохи войны в Чако. «Пончос рохос» помогли в свое время свергнуть президента Санчеса де Лосаду, а сейчас по первому зову президента готовы двинуться в Санта-Крус и другие департаменты, в которых сепаратисты мутят воду. Эво Моралес заявил даже, что вооруженные силы и «пончос рохос» помогут в трудную минуту сохранить единство страны. Это страшно возмутило «автономистов» и некоторых военных. Как, мол, можно наделять незаконные индейские отряды полномочиями регулярной армии?
— И как решили этот вопрос?
— Никак. Президент издал указ о разоружении «пончос рохос» и обмене их винтовок на продовольствие. Но желающих не нашлось. В этом индейская милиция не подчинилась Эво: «Он еще убедится, что мы ему пригодимся».

В 1959 году в забытом богом селении аймара Исальяви (Isallawi), расположенном в 155 километрах от города Оруро, родился малыш, которого назвали Эваристо (Evaristo). Потом имя поменяли на аймарское – Иву (Iwu), потом на Ибо (Ibo) и, наконец на нынешнее, всем известное – Эво. Семья жила, даже по индейским понятиям, в необычайной бедности. Эво вспоминал, что однажды мальчишкой он отправился с отцом на заработки в Оруро. Шли вдоль дороги пешком, несколько дней. И вот – мимо промчался сияющий лаком и никелем (из другой – богатой - жизни!) туристический автобус, из которого вылетели на обочину оранжевые шкурки апельсина. Эво подобрал их и съел: «Они показались мне тогда очень вкусными».
Свои организаторские способности Эво впервые проявил, создав поселковую футбольную команду, которая славилась тем, что проявляла бойцовский характер даже в самых проигрышных ситуациях. Повзрослев, Эво занялся тем, чем занимались все вокруг, – выращиванием коки. Постепенно выдвинулся в число профсоюзных лидеров «кокалерос». Защищать права индейцев в Чапаре, которое мировая пресса окрестила «гнездом наркотрафикантов», было опасно и для жизни, и для будущей политической карьеры. Но Эво сумел выстоять, хотя не раз был на волоске от смерти. По словам хорошо знающих его людей, Эво «никогда не сдавал своих принципиальных позиций и был равнодушен к благам обеспеченной жизни, то есть был непроницаем для коррупции к великому горю своих врагов».
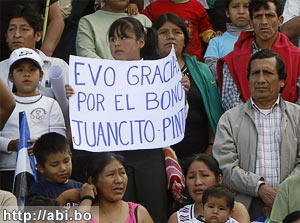
Постоянным нападкам подвергается его политика в области энергетики. Национализация нефтегазовых месторождений, установление государственного контроля над добычей, переработкой и коммерциализацией нефти и газа, - все это было осуществлено Моралесом в кратчайшие сроки. Его оппоненты дружно предсказывали: страну накажут, нас лишат инвестиций, мы катимся к экономической катастрофе! Но результат был совершенно иной: государственная казна за первый же год пополнилась на два миллиарда долларов! Надо ли напоминать, что до Моралеса Боливия была «побирушкой»: зависела от иностранных кредитов, подачек, субсидий, фондов содействия и т.п. «филантропии».
Индустриально развитые страны сознательно опутывали ее вязкой долговой паутиной, добиваясь «компенсаций», исключительных прав на разработку месторождений минеральных ископаемых, односторонних уступок, вплоть до прямого контроля над ключевыми аспектами жизнедеятельности государства. Даже назначения на различные руководящие посты в правительстве, вооруженных силах и полицейских органах прежние боливийские президенты согласовывали с посольством Соединенных Штатов. Принуждение к этому шло под разными предлогами, но чаще всего звучал такое обоснование: «Чтобы в государственные структуры не проникали лица, связанные с наркобизнесом».
«Отставленная» политическая элита, забывшая о том, что она еще недавно старательно обслуживала западные интересы в стране, постоянно подчеркивает, что боливийский народ «ошибся», избрав Эво президентом. Он, мол, не обладает нужной подготовкой, плохо продумывает решения и, вообще, проводит «не тот» политический курс!

Эво не отказался от своих «до-президентских» привычек: по-прежнему предпочитает народную пищу, не изменил своему стилю в одежде – свитерам и курткам. Правда, сейчас они элегантнее, чем во времена его профсоюзной и партийной деятельности. Положение обязывает!3 Появились у боливийского лидера и первые биографы, хотя их значительно меньше, чем у президента Чавеса, о котором уже издано не менее 4 тысяч книг. Муручи Рома, автор биографии «Эво Моралес, от кокалеро до президента Боливии», имел исключительную возможность для сбора материалов о своем герое. Индеец-аймара, Рома хорошо знаком с образом жизни обитателей альтиплано, и его понимание особенностей характера, жизненных установок и устремлений президента-индейца всесторонне отражено в книге, которая должна стать «настольной» для всех, кто занимается проблемами Боливии. Будет она полезной, по мнению Муручи Рома, и правой оппозиции: «Ей пора отбросить расовые предрассудки, попытаться понять индейскую душу Моралеса и проникнуть в образ его мыслей, чтобы, наконец-то, наладить с ним «конструктивный диалог».4
В одном из интервью Рома заявил, что «считает чудом столь долгое (!) пребывание президента-индейца у власти». И тут же подчеркнул, что если Эво Моралесу удастся сплотить народ вокруг высокой цели сохранения единства Боливии, то «ни правые силы, ни Соединенные Штаты не смогут достичь своих целей в борьбе против него».5 Об угрозе покушения на него сам президент в своих публичных выступлениях напоминает постоянно. Предупреждает: если это случится, страна погрузится в пучину гражданской войны. Дает понять, что не будет следовать «рекомендациям» Вашингтона «не дружить» с Каракасом и Гаваной. Недавно, на церемонии, посвященной успешному завершению кампании по борьбе с неграмотностью в департаменте Оруро, в которой принимали участие венесуэльские и кубинские добровольцы, Моралес четко обозначил свое отношение к Фиделю Кастро и Уго Чавесу: «Эти президенты, эти команданте, и в самом деле являются командующими освободительных сил всей Америки, и, мы надеемся, - всего мира».

При всей загруженности делами Эво находит время и для футбола! Трудно представить, чтобы предшественники Моралеса – Гонсало де Лосада, Карлос Меса и другие – до седьмого пота гоняли мяч в каком-либо дружеском турнире. Вот это их и раздражает. Эво играет с энтузиазмом. Он был искренне огорчен, когда Международная федерация футбола признала непригодными для проведения чемпионатов «высокогорные стадионы». Для Боливии это поля в Ла-Пасе, Оруро и Потоси! Опять откровенная дискриминация! Опять надо бороться за справедливость, на этот раз футбольную.
1. Torres, Joaquin, «Viaje por las Americas», Buenas Aires, Editorial Libreria al por mayor, 2-a edicion, 1954, p. 58.
2. См. статью: Jorge V. Ordenez L., «Lo de educacion descolonizadora», Correo del Sur, 18.02.08.
3. По представлениям индейцев, использование привычной одежды, какой бы поношенной она не была, - гарантирует везение и успех в делах. Этим, скорее всего, и объясняется, что Э. Моралес отправился в свое первое президентское турне в старом свитере – «chompa» .
4. Poma, Muruchi, «Evo Morales, de cocalero a presidente de Bolivia», Ed. Flor de Viento, Barcelona, 2008.
5. Diario Opinion, Cochabamba, 19.03.08.
